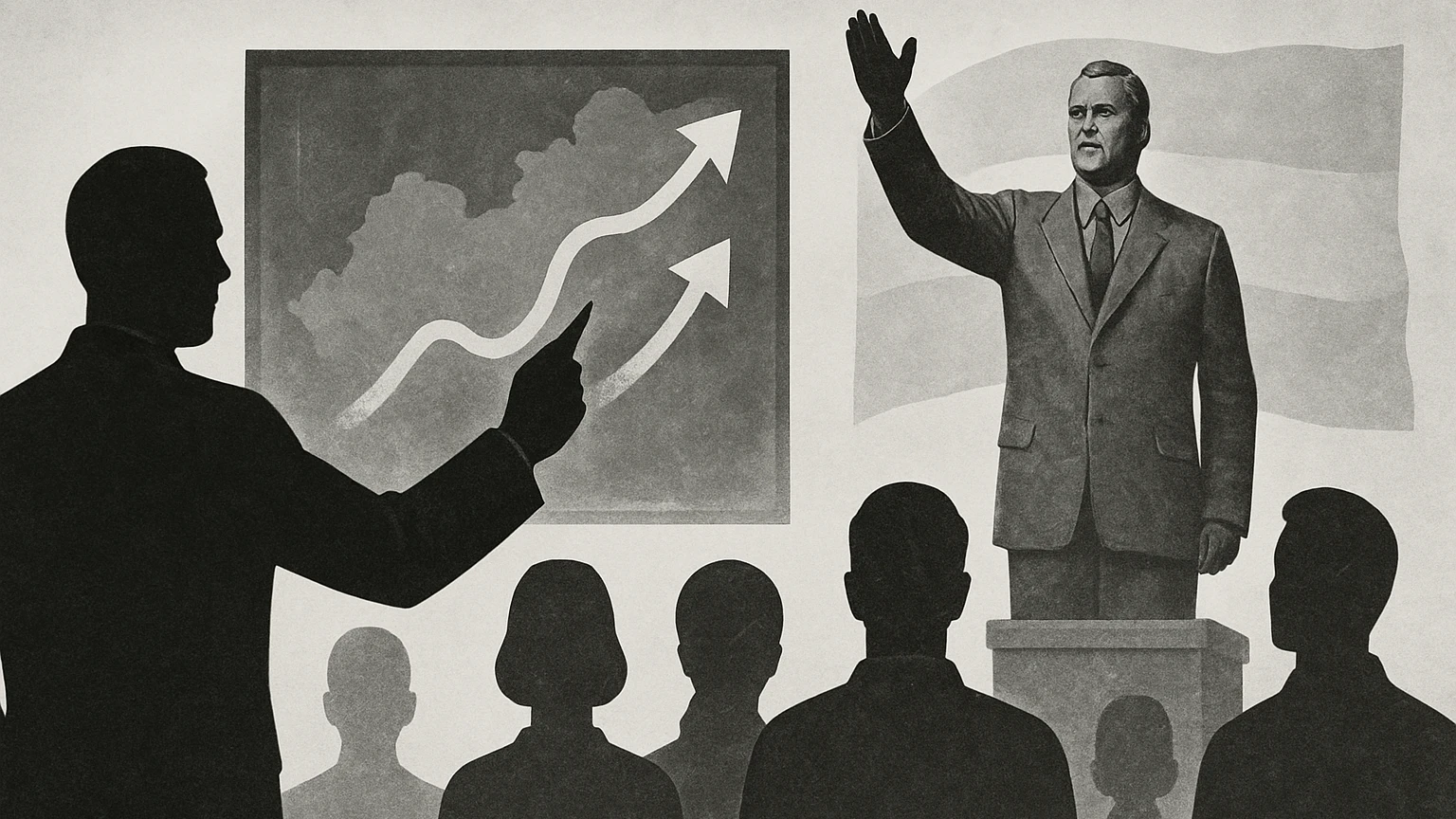Связывать усиление авторитарных режимов исключительно с жестким контролем — значит не охватывать всей полноты проблемы. Хотя основой таких систем действительно является подавление оппонентов — последовательное или избирательное, современные аналитические подходы показывают, что полный контроль над коллективной памятью является важнейшим элементом легитимации постсоветского авторитаризма. Авторитарное управление формирует прошлое в соответствии со своими политическими целями, создавая такую историческую память, в которой, по мнению власти, нуждается общество (Olick & Robbins, 1998a). История при этом используется как инструмент искажения политики. По выражению Райнхарта Коселлека, история — это не только описание прошлого, но и инструмент формирования будущего (Koselleck, 2004a).
Введение
На протяжении большей части XX века основным средством удержания власти для диктаторов и автократов было насилие. Однако в начале XXI века технологический прогресс и всё более взаимосвязанный мир увеличили издержки широкомасштабного применения силы. Если диктатуры хотели выжить, не изолируясь от глобальных рынков, им пришлось адаптироваться к новым условиям. В результате сформировался новый тип авторитарных режимов — основанных не столько на насилии и идеологии, сколько на сложной пропаганде и манипуляции информацией (Elman Fattah, 2019). В этих режимах пропаганда уже не служит цели показать миру некое новое видение, а используется исключительно для убеждения населения в компетентности диктатора. Если большинство граждан начнет считать диктатора некомпетентным, они могут восстать и попытаться свергнуть его в результате революции.
Постановка проблемы
На постсоветском пространстве политика памяти стала важным инструментом политической борьбы. Авторитарные режимы избирательно подходят к историческим событиям — одни подчеркивают, другие полностью стирают из коллективной памяти. Посредством такой «исторической инженерии» правительства создают удобную для себя среду, чтобы определять будущее. В этой искусственно сконструированной среде коллективная память становится ключевым индикатором отношений между государством и обществом. Через образы «спасителя-национального лидера» и понятие «политической стабильности» режимы формируют образ мышления общества. В результате люди начинают воспринимать это сфабрикованное прошлое как нормативу для построения будущего.
Данный анализ KHAR Center построен вокруг вопросов: как авторитарные режимы используют политику памяти для укрепления своей власти? и тезиса: они формируют коллективную память с помощью официальных нарративов и идеологических символов.
Коллективная память как источник политической власти
По мнению известного теоретика Мориса Хальбвакса, коллективная память играет центральную роль в процессе самоосознания общества. Поэтому авторитарные режимы ставят своей главной целью адаптацию массовой памяти под идеологические нужды системы (Halbwachs, 1992a). Они осознают, что память — это ключевой механизм, регулирующий легитимность господствующей идеологии.
По этой причине авторитарные режимы реализуют этот процесс последовательно и систематически. Система образования, государственные СМИ, исторические институты и памятные даты — все они являются инструментами этой политики. В итоге «память системы» полностью подчиняет себе «память общества». Цель — заранее определить направление политического развития в будущем.
Режимы, принявшие за руководство идею Коселлека о том, что история — это не только описание прошлого, но и инструмент формирования будущего, стремятся «перевернуть» прошлое. Такие термины, как «наши достижения», «национальные герои» и «вечные враги», используются не только для воспоминания исторических событий, но и как средство измерения лояльности граждан (Koselleck, 2004b). Люди, готовые принимать прошлое без критики, склонны проявлять лояльность к тем, кто позиционирует себя как продолжатели этого прошлого.
Теория Хальбвакса подчеркивает важный аспект: память постоянно поддерживается через социальные группы. В демократических обществах такие группы способствуют формированию разных точек зрения. В авторитарных режимах же независимые исследователи, представители гражданского общества и деятели культуры либо подавляются, либо полностью игнорируются. Таким образом, власть усиливает контроль над управлением памятью и одновременно контролирует не только политическую, но и идеолого-культурную сферу (Halbwachs, 1992b).
Известное понятие «государственного театра», предложенное Клиффордом Гирцем, также поясняет, что политическая власть реализуется не только через административные институты и насилие, но и посредством ритуализированных зрелищ. Военные парады, памятные даты, юбилеи лидеров, открытие памятников и массовые мероприятия служат визуальной демонстрацией государственной мощи и идеологической преемственности (Geertz, 1973). Иными словами, эти церемонии внедряют «спектакль власти» в коллективную память общества. Ритуалы не просто напоминают о прошлом — они реконструируют его в рамках заданного нарратива и поддерживают ритм политической лояльности граждан.
"Изобретённые традиции"
Эрик Хобсбаум и Теренс Рейнджер утверждают, что «изобретённые традиции» часто используются авторитарными режимами как инструмент (Hobsbawm & Ranger, 1983a). Иными словами, если в прошлом нет реальной основы, этот вакуум заполняется искусственно и со временем представляется как «историческая преемственность».
На постсоветском пространстве эту тенденцию можно наблюдать особенно ярко. Государства, возникшие после распада СССР, стремились восполнить идеологический вакуум, создавая искусственные связи с прошлым.
В Азербайджане примером служит «День Национального Спасения» (15 июня). Возвращение Гейдара Алиева в 1993 году связывается с этой датой и преподносится как «исторический момент спасения государства от угрозы распада». Ежегодные массовые мероприятия, документальные фильмы, подготовленные государственным телевидением, и информация в школьных учебниках служат одной цели — представить власть Алиева как единственного защитника азербайджанской государственности.
В России миф о «Великой Отечественной войне» — это один из таких инструментов. 9 мая, День Победы, — это не просто историческая дата, а идеологическое оружие современной России. Владимир Путин преподносит этот день как символ «государства-победителя». Это показывает, что День Победы играет важную роль как во внутренней мобилизации, так и во внешней политике.
В Туркменистане при Сапармураде Ниязове были сформированы традиции, такие как «памятная церемония Рухнамы» и официальное празднование дня рождения лидера, которые не имели реальной исторической основы, но преподносились как «фундамент национальной культуры». Цель была очевидна — дальнейшее развитие культа личности. Во времена Бердымухамедова эти ритуальные системы продолжали существовать в разных формах.
На постсоветском пространстве изобретённые традиции выполняют три основные функции:

- Создание искажённой преемственности с прошлым позволяет скрыть пробелы в истории государственности.
- Укрепление культа личности — представление лидера как спасителя народа и символа непрерывности.
- Подавление альтернативной памяти — недопущение возможности вспоминания истории с других точек зрения.
Таким образом, эти «изобретённые традиции» становятся одним из ключевых идеологических инструментов для устойчивого воспроизводства политической власти. Если рассматривать пример Азербайджана, то главным элементом, который власть стремится стереть из исторической памяти за последние 30 лет, является наследие Мамед Амина Расулзаде. Власть осознаёт, что пока жива память о Расулзаде, история алиевизма остаётся в тени в общественном сознании.
Основные инструменты политики памяти в авторитарных режимах
Как отмечено в тезисе данного анализа, авторитарные режимы добиваются полного контроля над памятью, используя не только политическую силу, но и символические и культурные средства. Благодаря этим инструментам история начинает служить государственной идеологии, а возможность появления альтернативных точек зрения в коллективном сознании подавляется.
В системах авторитарного управления процессы «вспоминания» и «забвения» приобретают важное политическое значение. Такие режимы выдвигают на передний план те исторические события, которые они считают «подходящими», и скрывают либо искажают те, что считаются «неподходящими». Например, периоды репрессий замалчиваются, в то время как акцент делается на якобы эпоху «экономической стабильности» (Bernhard & Kubik, 2014). Историческим событиям и личностям придаётся новое значение в рамках современной идеологической среды. Учебники, находящиеся под контролем государства, становятся одним из главных инструментов в этом процессе. Памятники, мемориальные комплексы и государственные церемонии визуализируют и эмоционально закрепляют нужную власть им память (Forest & Johnson, 2011).
Примеры из Южного Кавказа
В Южном Кавказе политика памяти связана не только с историей. Она развивается на фоне независимости, строительства государства и глубоких следов этнополитических конфликтов. Здесь режим памяти выполняет не только функцию обеспечения внутренней легитимности, но также становится важным инструментом обоснования внешней политики. Несмотря на то что Азербайджан, Армения и Грузия применяют авторитарные или полуавторитарные методы в разной степени, у всех них есть общая черта: государство избирательно преподносит историю и подавляет альтернативные формы памяти.
Центральной темой государственной идеологии Азербайджана является образ спасителя в лице Гейдара Алиева, с которым противопоставляются трагедии, произошедшие в его отсутствие — потери и проблемы внутренне перемещённых лиц в результате войны начала 1990-х годов. Наследие Гейдара Алиева занимает важное место в государственных символах, учебных материалах и общественном пространстве (Cornell, 2011). Это создаёт условия для отождествления государства с «национальным лидером-спасителем» — в духе концепции «изобретённых традиций» Эрика Хобсбаума (Hobsbawm & Ranger, 1983b). В официальных дискуссиях особо подчёркиваются такие понятия, как «территориальная целостность» и «восстановление исторической справедливости» (de Waal, 2013). После победы в войне 2020 года рассказ о том, что все достижения Азербайджана связаны исключительно с семьёй Алиевых, был ещё более укоренён с помощью «Памяти Победы».
Для армян события 1915 года составляют основу национальной идентичности и внешней политики (Touryan Miller, 1999). Эта историческая память играет важную роль в укреплении внутреннего единства страны и одновременно становится ключевым элементом отношений с диаспорой. Войны 1988–1994 и 2020 годов, темы героизма, жертвы и утрат занимают важное место в официальной памяти. Образ «национальных героев» составляет фундамент государственной идентичности.
После «бархатной революции» 2018 года, несмотря на то что наследие прежних элит и вопросы коррупции стали предметом широкого общественного обсуждения, до сих пор не были реализованы серьёзные институциональные реформы в сфере памяти. Это препятствует демократизации коллективной памяти (Broers Laurenc, 2019).
Для грузин события в Тбилиси 1989 года и война между Россией и Грузией 2008 года играют ключевую роль в стратегии официальной памяти (Jones, 2013). Эти события стали символами «борьбы за независимость».
Во времена Саакашвили начался процесс десоветизации, выразившийся в широком демонтаже советских символов. Однако порой эти меры носили избирательный характер и становились инструментом политической борьбы. Некоторые памятники были демонтированы исключительно по политическим причинам. Тем не менее, независимые НПО в Грузии продолжают осуществлять архивные и музейные проекты для сохранения памяти жертв репрессий.
Таким образом, для всех государств Южного Кавказа политика памяти стала важным инструментом как внутренней легитимации, так и геополитического позиционирования. В Азербайджане и Армении она в основном строится вокруг военных нарративов и культа лидеров. Несмотря на более продолжительный демократический опыт, Грузия также пока не полностью избавилась от политизированности и проблем безопасности в сфере политики памяти.
Значение альтернативной политики памяти
При отсутствии альтернативной политики памяти закрепление авторитарных норм в общественном сознании становится неизбежным. Гегемоническая память, формируемая государством, помещает в центр коллективного сознания мифы о «необходимости сильного лидера», «угрозе со стороны внешних врагов» и «приоритете стабильности». Пока эти мифы не подвергаются критике и не разрушаются, политические предпочтения и представления общества об идентичности остаются в рамках, заданных авторитарным режимом.
Как отмечает Алейда Ассман, демократия — это не только демонтаж политической системы, но и трансформация структур памяти (Assmann, 2010). Это означает принятие различных взглядов на прошлое, внимание к альтернативным интерпретациям и выведение на передний план подавленных голосов. Один из основных принципов демократической политики памяти заключается в том, что случаи насилия и несправедливости не должны быть скрыты, а напротив — должны быть предметом общественного обсуждения.
Если вспомнить известную фразу Джорджа Оруэлла: «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее» (Orwell, 1949). Эта фраза наглядно раскрывает суть авторитарных систем памяти. Их цель — не просто интерпретировать прошлое, а формировать идеологическое направление будущего. Следовательно, идентичность общества, его политическая привязанность и историческое сознание будущих поколений формируются в рамках этого контроля. Отсюда становится ясно: свобода памяти — важнейшая составляющая построения демократии. Строительство демократии не должно ограничиваться только эффективной работой избирательной системы.
Заключение
Анализ показал, что современные авторитарные режимы не просто помнят прошлое — они переписывают его по собственному усмотрению, используя его для оправдания своей власти и для определения того, кто народ, и что он должен (или не должен) помнить. Для таких режимов память — это не просто архив истории, это политическое оружие.
Повторяющиеся выступления чиновников, уроки, преподаваемые детям в школах, официальные мероприятия и государственная символика — всё это направлено на то, чтобы показать, как именно следует помнить прошлое. Это формирует нашу идентичность и одновременно внушает мысль, что «без нас этой страны бы не существовало».
На Южном Кавказе особенно ярко проявляются два примера политики памяти — Азербайджан и Армения. В обоих странах подходы к прошлому построены по схожей структуре, но, как показал анализ, они опираются на разные основания. В Армении память о геноциде стоит в центре всего. Каждый армянский ребёнок растёт с этой трагедией, и эта боль становится основным звеном национального единства.
В Азербайджане же центральное место занимает военная победа в 44-дневной войне 2020 года — так называемая «Память Победы». Вокруг этой памяти формируется образ «победоносного народа», а президент Ильхам Алиев представлен как главный герой этой символики. Всё это, безусловно, используется для укрепления легитимности власти в стране.
Различия в моделях памяти напрямую влияют на мирный процесс. Поскольку стороны рассказывают свою историю только в собственной интерпретации и не хотят признавать память противоположной стороны, достижение подлинного мира становится трудной задачей.
Поэтому подписание дипломатических документов — это лишь начало. Для настоящего мира нужно изменить язык диалога, риторику, слушать исторические нарративы друг друга и признать память противоположной стороны. В противном случае, раны прошлого будут и дальше мешать построению будущего.
Источники:
Olick, Jeffrey K., and Joyce Robbins. “Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices.” Annual Review of Sociology 24 (1998): 105–140a.
Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York: Columbia University Press, 2004a. https://cup.columbia.edu/book/futures-past/9780231127714/
Elman Fattah, 2019. Yeni Avtoritarizm və Azərbaycan, p. 74-76.
Wertsch, James V. Voices of Collective Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 10-29. https://www.cambridge.org/core/books/voices-of-collective-remembering/9FF0E27FC67D1DC38E973B8E54C402EE
Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press, 1992a. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/O/bo3619875.html
Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York: Columbia University Press, 2004b. https://cup.columbia.edu/book/futures-past/9780231127714/
Halbwach, Maurice. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press, 1992b. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/O/bo3619875.html
Hobsbawm & Ranger, 1983. The Invention of Tradition. Cambridge University Press.https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2864239
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. 7-16. https://web.mit.edu/allanmc/www/geertz.pdf
Forest, Benjamin, and Juliet Johnson. “Unraveling the Threads of History: Soviet-Era Monuments and Post-Soviet National Identity in Moscow.” Annals of the Association of American Geographers 102, no. 6 (2011): 1316–1331. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.00303
Assmann, Aleida. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. https://assets.cambridge.org/97805211/65877/frontmatter/9780521165877_frontmatter.pf
Institute for the Study of Totalitarian Regimes (ÚSTR) https://www.ustrcr.cz/en/about-us/
Orwell, George. Nineteen Eighty-Four. London: Secker & Warburg, 1949. 20. https://www.clarkchargers.org/ourpages/auto/2015/3/10/50720556/1984.pdf
Cornell, Svante E. Azerbaijan Since Independence. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2011. http://lib.ysu.am/open_books/304695.pdf
Hobsbawm & Ranger, 1983b. The Invention of Tradition. Cambridge University Press.https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2864239
de Waal, Thomas. Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. New York: New York University Press, 2013. https://nyupress.org/9780814760321/black-garden/
Miller, Donald E., and Lorna Touryan Miller. Survivors: An Oral History of the Armenian Genocide. Berkeley: University of California Press, 1999. https://www.ucpress.edu/books/survivors/paper
Broers, Laurence. Armenia and Azerbaijan: Anatomy of a Rivalry. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. https://edinburghuniversitypress.com/book-armenia-and-azerbaijan.html
Jones, Stephen F. Georgia: A Political History Since Independence. London: I.B. Tauris, 2013. https://www.academia.edu/125499123/Georgia_a_political_history_since_independence